
Reflections on academicism and architectural education
From Moscow to Milan: learning architecture across borders
Published in October 2025
Listening to the Cycle 1 podcast, I found myself reflecting on my own academic journey and where I stand within it. The question posed in the episode is, how do we find our place in academic space, especially as early-career urban scholars? resonated with my experiences as a student of architecture across three very different systems
Inspired by the conversations of Cycle 1, I wanted to map my own academic journey, not as an answer, but as an ongoing reflection. It is an attempt to understand how different academic systems not only teach architecture, but shape how we come to think, see, and feel it. At its core, I am asking a simple question: how do these diverse educational environments influence an aspiring architect’s mindset, values, and professional identity?
To answer this, I examine the three academic settings I know firsthand. I began my studies in Russia, spent my undergraduate years in the United Kingdom, and now continue my training in Italy. Each phase taught me something different: Russia instilled discipline and technical rigor, the UK encouraged creativity and critical inquiry, and Italy introduced collaboration and contextual thinking. These differences are not just about school curricula; they reflect different philosophies of what architecture is and what an architect should be.
#Education #Dialog #Adaptation #Expression

To enrich this comparative reflection, I spoke with three fellow architects whose journeys, like mine, traverse multiple educational cultures — each weaving a different pattern of experience. Javi Arreola, originally from Mexico, began her studies at Politecnico di Milano’s Piacenza campus and now continues her master’s at the university’s central Leonardo campus. Her perspective bridges Latin American pragmatism and Italian academic depth. Zoia Dubinskaia, with roots in both Russia and the UK, brings together the analytical sharpness of London Metropolitan University and the structured clarity of Polimi’s Master’s program. Anna Krylova, born and trained first in Moscow, expanded her architectural lens through studies in Austria and Italy, merging the technical, the artistic, and the visionary into a singular voice. Their reflections helped me see beyond the contours of my own experience, adding nuance and contrast to the questions I was already asking. Together, our voices form a kind of dialogue across borders, systems, and ways of thinking on what it truly means to “learn architecture” today. Blending research with lived experience and drawing on a few architectural metaphors along the way, I aim to show how each educational culture I’ve encountered has laid a new layer in the foundation of my architectural identity.
Russia (2016–2019) – Rigor and Foundations
My architectural education began in Moscow, at the State University of Land Use Planning, where I studied from 2016 to 2019. Entering this venerable institution (one of the oldest in Russia), I encountered a very traditional approach to teaching architecture. The program emphasized rigor and discipline. We were grounded in fundamentals. We took intensive courses in mathematics, engineering mechanics, and building materials, and spent hours on hand-drafting and technical drawing. I still remember the countless studio sessions spent with pencil and ruler, perfecting line weights and perspective constructions.
As Anna recalled: “You’re drawing by hand — redrawing classical architecture. You start to feel these details, the composition. You start to feel architecture.”
That deeply technical training gave me a solid foundation in construction principles and precision. This Russian educational experience, however, often felt rigid. Creativity and conceptual exploration took a back seat to accuracy and obedience to guidelines. Assignments had clear rules and correct outcomes; there was little room to challenge assumptions or propose unconventional ideas. As some graduates of Russia’s traditional architecture schools have noted, “nobody ever explained what creativity is, why it is needed” – the emphasis was on executing tasks, not questioning them. Professors delivered knowledge in a top-down manner, and students were expected to listen and reproduce. The classroom culture was formal and hierarchical, reflecting an older model of education where the teacher is the unquestionable authority. While this method ensured we mastered essential techniques, it seldom invited us to think about the broader context or social purpose of our designs. Anna also noted: “You don’t have a choice — but after graduation, you will know the history of architecture from ancient times to modern. You’ll learn how to place things on a plan.”
On a personal level, my years in Moscow gave me confidence in the fundamentals. I became comfortable with the technical language of architecture, from load-bearing calculations to classical proportions. Yet I also felt something was missing. I yearned for a more open-minded, experimental environment, one that would encourage me to ask “why” and “what if” rather than just “how.” After two and a half years, I decided to seek that different perspective. In 2019, I left Russia to continue my architectural education in London – stepping from a world of structured order into a new realm of creative exploration.

United Kingdom: London Metropolitan University (2019–2022)
Arriving at London Metropolitan University in 2019 for my bachelor’s in architecture and Urbanism was a transformative leap from my earlier education in Russia. The academic environment in the UK struck me as open, exploratory, and driven by critical inquiry. Unlike the rigorous, technically focused training I received in Moscow, London Met encouraged questioning and creative freedom.
I found myself in a studio culture that valued personal expression and conceptual thinking, where tutors invited us to challenge conventions rather than simply follow them. It was both liberating and unsettling at first; I had to unlearn the idea that there is always a “correct” solution and embrace a mindset where multiple ideas could coexist. The design studio was at the heart of the curriculum, and we learned through hands-on projects often tied to real-world contexts. There was a strong emphasis on socially engaged design – many projects tackled community issues or global challenges, from housing justice to climate resilience. Teaching at London Met was remarkably student-centered. Professors and guest practitioners treated us as collaborators, fostering an informal dialogue in critiques and workshops. Zoia reflected on a similar atmosphere in her own undergraduate experience in a British-modeled school: “Professors became part of the team — we could argue, exchange, even cocreate. They brought their own ideas, not just critique.” Peer learning was encouraged; working closely with classmates from diverse backgrounds opened my eyes to new ways of thinking about architecture. The studio culture facilitated lively conversations between students and staff and gave me the freedom to explore and develop my own design voice. I realized that architecture school here was not about conforming to a single standard, but about cultivating a community of designers, each with a unique approach.
This British education system profoundly shaped me as both a person and an emerging architect. London Met instilled confidence and independence – the encouragement to be yourself pushed me to articulate my own vision in design. I learned to question systems, not just execute them, becoming comfortable challenging assumptions and proposing bold ideas. At the same time, I learned to ground my creativity in research and context, balancing imagination with critical thinking. The close mentorship from tutors and constant peer feedback honed my communication and collaboration skills, a contrast to the top-down teaching style I had known in Russia. As Zoia put it: “British schools aim to grow architects who think deeply and solve not just surface problems — but go into science, history, and meaning.” By the time I graduated in 2022, I could connect architecture with social issues and tackle design problems with both creativity and rigor.
Studying in London also prepared me for the next step in Italy by giving me a flexible mindset. It served as a bridge between the strict academic foundations of Russia and the collaborative, interdisciplinary approach I would encounter at Politecnico di Milano. Ultimately, my London Met years were about discovering my own voice and the power of ideas in architecture – a foundation of creative confidence I carry forward into my graduate studies.
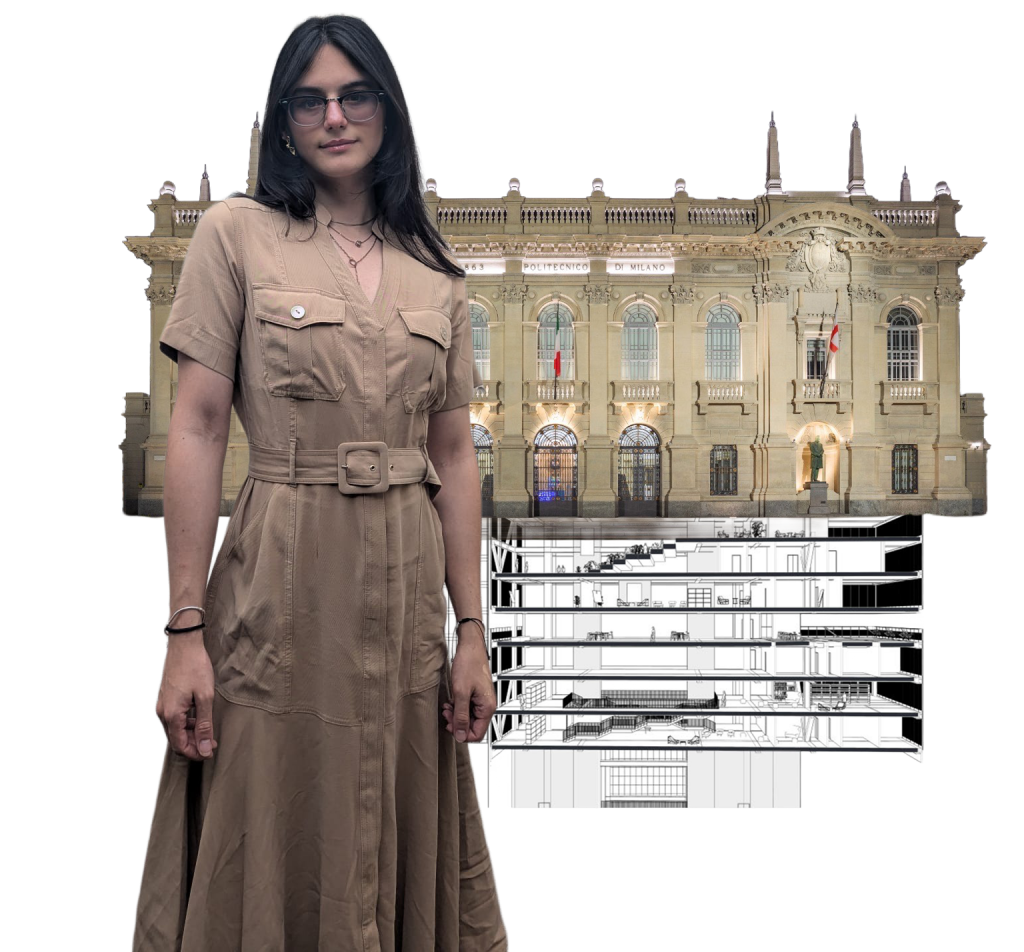
Italy: Politecnico di Milano (2023–2025)
Beginning my master’s in architecture and Urbanism at Politecnico di Milano in 2023, I entered an academic culture that again reshaped my perspective. Polimi’s program blends technical rigor with creative innovation. I immediately noticed a more structured curriculum – courses with strict schedules and formal evaluations – yet this formality came with a strong emphasis on collaboration. Polimi makes group work the norm, often assigning design projects to teams. Javi shared: “Some studios had teams of 3, 5, even 12 — working in teams was essential, especially in Milan.” Coming from the UK, where I was used to developing ideas mostly on my own, this was a significant adjustment. Designing in groups of five or more meant negotiating concepts and sharing responsibility. While initially challenging, I learned to thrive in this collective process. It honed my ability to communicate, compromise, and lead within a diverse team, closely mirroring the reality of professional practice. The teaching philosophy at Politecnico di Milano integrates theory with practice and insists that architecture engage with real contexts. Studio projects often collaborate with external partners or municipalities, so our designs must account for actual constraints and community needs.
Zoia emphasized this shift: “The biggest part was thinking about the real world, what you can actually do, what kind of problems you can solve.”
There is also a clear emphasis on real-world exposure: through site visits, workshops, and industry case studies, we gain insight into contemporary challenges and standards. Zoia added: “Polimi shapes responsible architects, people who think about their choices, materials, and the world around them.”
A highlight was the Architecture for Human Space Exploration workshop led by Dr. Valentina Sumini, where we designed lunar and Martian habitats in collaboration with aerospace engineers. That experience epitomized Polimi’s boundary-pushing spirit and taught me the value of interdisciplinary design.
Studying in Italy has significantly shaped my development as both an architect and a person. Anna described it succinctly: “In Italy, there is freedom — but you need to fight for it.” Polimi’s mix of strict standards and creative exploration taught me to structure my design process rigorously while still thinking outside the box. Zoia explained: “In the UK, we shaped the experience ourselves. In Italy, the experience was already shaped for us — we could move within it but not redefine it.” I also deepened my technical expertise, complementing the conceptual focus I had gained in the UK. At the same time, grounding every project in real data and constraints has made my proposals more realistic and responsible. Ultimately, the Italian system taught me to integrate everything I’ve learned: fusing the solid foundations from Russia with the inventive mindset from the UK, and connecting architecture to wider disciplines and societal issues. Javi summarized: “Polimi creates creative, ambitious, and sustainable architects.” This journey has made me a more versatile and conscientious architect. I now feel equipped not only to design buildings, but to engage with the broader context that shapes them. Politecnico di Milano has added a final layer of collaborative innovation to my architectural formation.
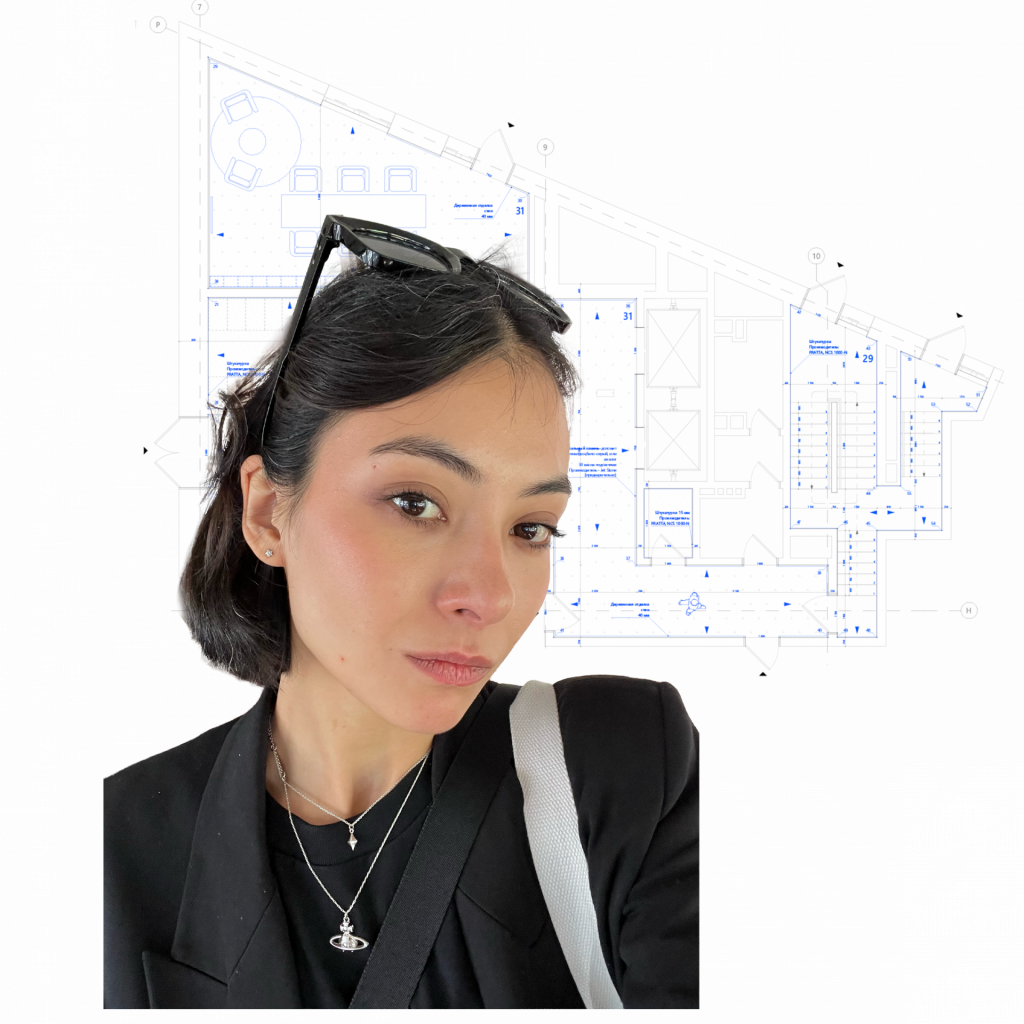
Three Systems — One Trajectory
Looking back, I don’t see one system as better than the others. Each one gave me something essential, not just skills, but a way of seeing.
In Russia, I became a confident executor. In the UK, a critical thinker. In Italy, a collaborative strategist.
I no longer try to choose between them. I carry all three systems within me. Their values, tensions, and contradictions now coexist — not as conflict, but as synergy. That’s where my strength lies. As Javi put it: “Architecture allows infinite possibilities. Professors in Milan give you examples — and then they open the door. It’s up to you to shape the solution.” What you do with it is your own responsibility. And as Anna reminded me: “Architecture is not just the studios. Architecture is not just the professors. Architecture is everywhere.” These educational models, of course, do not exist in a vacuum. They are rooted in national contexts, shaped by long-term historical and institutional trajectories. Russia’s curriculum still bears the imprint of Soviet-era planning and engineering pedagogy, one that prioritized technical mastery and alignment with state infrastructure. The British system evolved alongside liberal arts traditions, fostering theory, experimentation, and individual expression. In Italy, architectural education remains inseparable from its Renaissance legacy, a tradition where design is grounded in history, civic space, and material culture.
These are not surface distinctions. They reveal deep-seated beliefs about what architecture should be and how it should be taught. Whether a student becomes a precise technician, a conceptual thinker, or a socially responsive designer is not accidental; it reflects embedded cultural and institutional values.
As explored in the Studies in the History of Architecture journal and similar research, educational traditions shape not just curricula, but mindsets. Understanding this helped me realize that learning architecture across borders is not only a personal journey, but also an immersion into layered intellectual histories, each contributing to who I am becoming an architect. Through these three systems, I’ve learned how to find architecture in everything and how to bring everything back into architecture. Today, I design with precision, think with boldness, and build with context. And maybe that’s what it means to become an architect today: not to find one truth, but to navigate between many. To know how to work with structure, challenge it, and then reimagine it with others.
Text in Russian
Введение
Прослушав первый эпизод Cycle_1, я невольно задумалась о собственном академическом пути, и о том, где именно в нём нахожусь сейчас. Вопрос, поставленный в выпуске “Как найти своё место в академической среде, особенно в начале профессионального пути?”, глубоко отозвался во мне, так как я сма прошла обучение архитектуре в трёх совершенно разных образовательных системах. Вдохновившись обсуждениями Cycle_1, я захотела очертить собственную академическую траекторию, не как ответ на вопрос из цикла, но как продолжающуюся рефлексию. Это попытка осмыслить, как различные образовательные подходы не просто передают знания об архитектуре, но формируют наше восприятие, мышление и чувствование архитектуры как таковой. В центре размышлений один, на первый взгляд, простой вопрос: Как разные образовательные среды влияют на мышление, ценности и профессиональную идентичность будущего архитектора? Чтобы найти ответ, я обращаюсь к трём академическим контекстам, с которыми столкнулась лично. Моё обучение началось в России, я получила степень бакалавра в Британской школе, а сейчас продолжаю магистратуру в Италии. Каждый этап дал мне нечто уникальное: российская система образования дала дисциплину и техническую строгость, британская школа креативность и критическое мышление, а итальянская коллективность и чувствительность к контексту. Эти различия касаются не только содержания программ, за ними стоят совершенно разные философии того, чем является архитектура и кем должен быть архитектор. Чтобы расширить собственную перспективу, я поговорила с тремя коллегами-архитекторами, чьи пути, как и мой, пересекли несколько образовательных систем — каждая из них оставила свой отпечаток.
Хави Арреола, родом из Мексики, начала обучение в кампусе Пьяченцы Политехнико ди Милано, а сейчас продолжает магистратуру в центральном кампусе Леонардо. Её взгляд соединяет латиноамериканский прагматизм с академической глубиной итальянской школы.
Зоя Дубинская, выросшая между Россией и Великобританией, объединяет аналитическую чёткость Лондонского университета и структурную ясность магистерской программы Polimi.
Анна Крылова, получившая базовое образование в Москве, расширила своё архитектурное мышление, обучаясь в Австрии и Италии. Её путь соединяет техничность, художественность и визионерство в единый голос.
Разговоры с ними позволили мне выйти за пределы собственной истории и взглянуть на вопросы, которые я уже себе задавала, с новых ракурсов. Вместе наши голоса образуют своего рода диалог между странами, системами и способами мышления , о том что на самом деле значит “учиться архитектуре” сегодня. Совмещая исследование и личный опыт, и даже используя несколько архитектурных метафор, я стремлюсь показать, как каждая образовательная культура, с которой я столкнулась, добавила новый слой в фундамент моей профессиональной идентичности.
Россия (2016–2019): Строгость и основы
Моё архитектурное образование началось в Москве, в Государственном университете по землеустройству, где я училась с 2016 по 2019 год. Поступив в этот уважаемый вуз (один из старейших в России), я столкнулась с очень традиционным подходом к обучению архитектуре. Программа была построена на строгости и дисциплине. Мы получали фундаментальную подготовку. Изучали математику, сопромат, строительные материалы и бесконечно много времени уделяли чертежам от руки. Я до сих пор помню студийные сессии с карандашом и линейкой, в которых мы оттачивали толщину линий и перспективные построения. Как вспомнила Анна: «Ты рисуешь вручную — перерисовываешь классическую архитектуру. Начинаешь чувствовать детали, композицию. Начинаешь чувствовать саму архитектуру.» Такое техническое обучение дало мне прочный фундамент в конструктивном мышлении и точности. Однако в этой системе я часто чувствовала жёсткость. Творческому и концептуальному подходу уделялось меньше внимания, чем аккуратности и следованию инструкциям. Задания имели чёткие правила и правильные решения; почти не было пространства для того, чтобы ставить под сомнение исходные посылки или предлагать нестандартные идеи. Преподаватели передавали знания сверху вниз, а от студентов ожидалась точная репродукция. Атмосфера в классе была формальной и иерархичной — типичный образ старой школы, где преподаватель — абсолютный авторитет. Такой подход гарантировал, что мы освоим важные технические навыки, но редко побуждал нас задуматься о более широком контексте или социальной значимости наших проектов. Анна также отмечала: «Выбора у тебя нет — но после выпуска ты будешь знать всю историю архитектуры от античности до современности. Ты будешь чувствовать, как размещать объекты на плане.»
В личном плане мои годы в Москве дали мне уверенность в технической базе. Я свободно говорила на языке архитектурной инженерии — от расчёта нагрузок до классических пропорций. Но я ощущала нехватку свободы и эксперимента. Хотелось среды, где можно спрашивать “почему” и “а что если”, а не только “как”. В 2019 году я уехала в Лондон в поисках другой перспективы — из строго структурированного мира я шагнула в пространство креативной свободы.
Великобритания: MARCH_London Metropolitan University (2019–2022)
Поступление в London Metropolitan University в 2019 году на бакалавриат по архитектуре и урбанизму стало для меня настоящим скачком. Академическая среда в Великобритании сразу показалась мне открытой, исследовательской и настроенной на критическое мышление. В отличие от техничной и жёсткой подготовки в Москве, обучение в Лондоне побуждало к сомнению и свободе. Студийная культура была построена на личной экспрессии и концептуальном подходе: наставники не просто направляли нас, а призывали ставить под сомнение нормы. Это было одновременно освобождающе и немного пугающе — нужно было переучиваться, отвыкать от идеи единственно правильного решения и принимать множественность точек зрения. Центром учебного процесса была дизайн-студия и работа над проектами, часто привязанными к реальным задачам. Многие задания касались актуальных проблем — от социальной справедливости в жилье до изменения климата. Преподавание было ориентировано на студента. Преподаватели и приглашённые практики вели с нами диалог, а не лекции.Зоя вспоминала схожую атмосферу в своей британской школе: «Преподаватели становились частью команды — с ними можно было спорить, обмениваться, даже создавать вместе. Они приносили свои идеи, а не просто критиковали.» Сильным элементом было обучение друг у друга: работа в команде с однокурсниками из разных стран расширяла мои представления об архитектуре. Атмосфера способствовала развитию индивидуального голоса и собственной дизайнерской позиции. Школа не навязывала единую методику, а создавалась как сообщестцво с множеством подходов.
Эта система обучения изменила меня – как личность и как будущего архитектора. Я обрела уверенность, самостоятельность, способность формулировать собственное видение. Научилась не просто выполнять задания, а ставить под сомнение системы. И при этом – обосновывать идеи через исследования и контекст. Это было идеальное продолжение моего опыта в России – только в другую сторону. Зоя сказала: «Британские школы воспитывают архитекторов, которые думают глубоко и решают не только поверхностные задачи – они идут вглубь науки, истории, смысла.» Когда я закончила бакалавриат в 2022 году, я могла связывать архитектуру с общественными проблемами и применять и креативность, и строгость одновременно. Лондонская школа стала для меня мостом – между жёсткой фундаментальной подготовкой России и коллективно-интердисциплинарным подходом, который я вскоре встречу в Италии.
Италия: Politecnico di Milano (2023–2025)
Начав магистратуру в области архитектуры и урбанизма в Politecnico di Milano в 2023 году, я снова столкнулась с новой академической культурой, которая изменила мою перспективу. Программа Polimi сочетает техническую строгость с креативными инновациями. С самого начала я почувствовала структурированность: строгие расписания, формальные оценки – но всё это сопровождалось сильным акцентом на сотрудничество.
Работа в командах – обязательный формат. Как отметил Хави: «В некоторых студиях мы работали в группах по 3, 5, даже 12 человек – работа в команде была ключевой, особенно в Милане.» После британской системы, где я привыкла разрабатывать проекты в одиночку, это стало серьёзной перестройкой. Приходилось делить ответственность, договариваться о концепциях. Но именно в этом я научилась гибкости, умению вести диалог и вести за собой — навыки, приближённые к реальной профессиональной практике. Философия преподавания в Polimi соединяет теорию с практикой и требует от архитектуры вовлечённости в реальный контекст. Проекты часто реализуются в сотрудничестве с городскими администрациями или внешними заказчиками, поэтому приходится учитывать реальные ограничения и потребности сообщества. Зоя подчёркивала: «Самое главное — думать о реальном мире. Что ты действительно можешь сделать. Какие проблемы ты способен решить.» Сильный акцент ставится на контакт с профессией: выезды на объекты, воркшопы, кейсы из индустрии — всё это даёт прямое представление о современных вызовах и стандартах. Зоя также заметила: «Polimi формирует ответственных архитекторов — тех, кто осознанно выбирает материалы, решения, кто думает о мире вокруг.» Особенно запомнился воркшоп Architecture for Human Space Exploration под руководством В. Суминьи – мы проектировали жилые модули на Луне и Марсе вместе с инженерами из аэрокосмической отрасли. Это было воплощение духа Polimi — границы между дисциплинами стираются, и рождается архитектура будущего. Учёба в Италии повлияла на меня как на архитектора и как на личность. Международная среда в Милане – студенты из Европы, Азии, Америки — сделала меня более гибкой и открытой. Анна точно сказала: «В Италии есть свобода – но за неё нужно бороться.» Polimi сочетает строгость и свободу: я научилась выстраивать чёткий рабочий процесс и при этом мыслить нестандартно. Зоя подметила: «В Великобритании мы сами формировали учебный опыт. В Италии он уже сформирован – мы можем двигаться внутри него, но не менять рамки.» Я также усилила свои технические навыки, дополнив концептуальную базу, полученную в Великобритании. Одновременно, укореняя каждый проект в реальных данных и условиях, я научилась проектировать более реалистично и ответственно. Итальянская система позволила мне соединить всё, что я изучала до этого: твёрдую базу из России, изобретательность из Великобритании и междисциплинарный подход Polimi. Как сказал Хави: «Polimi выпускает креативных, амбициозных и устойчивых архитекторов.» Этот путь сделал меня более универсальным и вдумчивым архитектором. Теперь я чувствую, что готова не только проектировать здания, но и взаимодействовать с тем контекстом, в котором они рождаются. Politecnico di Milano стал последним слоем моей профессиональной архитектурной сборки.
Три системы — одна траектория
Оглядываясь назад, я не считаю, что одна система была лучше других. Каждая дала мне не только знания, но и особый способ видеть. В России я стала уверенным исполнителем. В Великобритании – критически мыслящим исследователем. В Италии – стратегом и командным игроком. Я больше не пытаюсь выбирать между ними. Сегодня я несу все три системы в себе. Их ценности, напряжения и противоречия теперь уживаются не как конфликт, а как синергия, и именно в этом моя сила. Как выразилась Хави: «Архитектура даёт бесконечные возможности. Преподаватели в Милане показывают примеры, а потом открывают дверь. Дальше – всё зависит от тебя». Но даже эта дверь, даже лучшая система —-всего лишь рамка. Что ты сделаешь внутри неё, зависит только от тебя. И как напомнила Анна: «Архитектура – это не только студии. Архитектура – это не только преподаватели. Архитектура повсюду». Эти образовательные модели, разумеется, не существуют в вакууме. Они глубоко укоренены в национальном контексте, сформированы историческими и институциональными траекториями. Учебные планы в России до сих пор несут отпечаток советского инженерного подхода и плановой экономики, с акцентом на техническую точность и государственные нужды. Британская система развивалась параллельно с традицией свободных искусств, культивируя теорию, эксперимент и индивидуальное выражение. Итальянское архитектурное образование по-прежнему неотделимо от наследия Ренессанса, традиции, в которой проектирование тесно связано с историей, городским пространством и материальной культурой. Эти различия отражают фундаментальные убеждения о том, чем является архитектура и как её следует преподавать. Станет ли студент точным техником, концептуальным мыслителем или социально ориентированным дизайнером, зависит не только от его выбора, но и от встроенных культурных и институциональных установок. Как показывают исследования, включая журнал Studies in the History of Architecture, образовательные традиции формируют не только программы, но и мышление. Осознание этого помогло мне понять: обучение архитектуре за пределами одной страны – это не просто личное путешествие, это погружение в слоистые интеллектуальные истории, каждая из которых вносит вклад в то, кем я становлюсь как архитектор. Благодаря этим трём системам я научилась находить архитектуру во всём, и возвращать всё обратно в архитектуру. Сегодня я проектирую с точностью, мыслю смело и строю с осознанием контекста. Я больше не сформирована одной школой, я построила свою собственную. И, возможно, именно это сегодня и означает быть архитектором: не искать единственную истину, а уметь двигаться между многими. Уметь работать со структурой, ставить её под вопрос, и затем переосмыслять её вместе с другими.